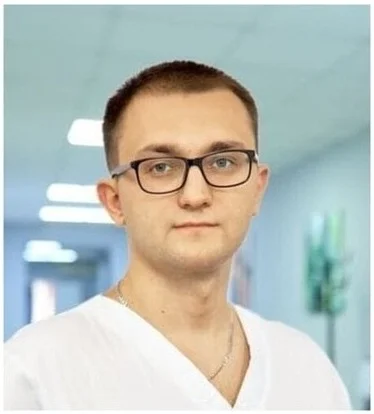Соцсети давно перестали быть просто развлечением. Они формируют вкусы, привычки, поведение — особенно у подростков. За красивыми фильтрами и лайками прячутся опасные тренды.
Контент, который подаётся как «вдохновляющий» или «освобождающий», на деле часто разрушает психику и здоровье. Люди копируют то, что видят в ленте, не осознавая рисков.
Не весь вирусный контент безобиден. Иногда он становится причиной зависимости, нарушения пищевого поведения, даже попыток суицида. Разбираемся, какие деструктивные привычки продвигаются в соцсетях, почему они так быстро распространяются — и как защитить себя и близких.
Деструктивные тренды: когда хайп опаснее наркотика

Социальные сети давно перестали быть просто местом для общения. Сегодня они становятся полноценным институтом социализации, особенно среди подростков. И если в школе или семье юный человек может получить конструктивный отклик, то в интернете его встречает совсем иная реальность — лайки, реакции и комментарии мгновенно формируют ощущение значимости — даже если оно построено на боли, провокации или саморазрушении.
Ради внимания подростки публикуют видео с голодовками, нанесением себе физического вреда, изнуряющими тренировками или приёмом снотворного — и получают дофаминовую награду. Так формируется классическая зависимость по типу «награда-повтор», только не от вещества, а от алгоритма.
«Движимые дофамином краткосрочные петли обратной связи, которые мы создали, уничтожают то, как работает общество», — признавал бывший вице-президент Facebook Чамат Палихапития.
Теория дофаминовой петли хорошо объясняет, почему деструктивный контент так быстро становится вирусным. В отличие от кино, книг или даже живого общения, соцсети дают немедленную и количественно измеримую отдачу — «сердечки», «подписки», «репосты». Подросток, выкладывая своё голодание или синяки после новой «чистки организма», не просто ищет поддержки. Он привыкает к мгновенному всплеску внимания — и закрепляет эту модель поведения. Чем больше боли — тем больше просмотров.
История из жизни
Пань Сяотин начинала как официантка. Жила скромно, мечтала выбраться из рутины. Мукбанг она увидела у друга — тот ел на камеру горы лапши, набирал миллионы просмотров и прилично зарабатывал. В этом формате не надо было говорить, танцевать, выдумывать контент. Просто ешь. Главное — много, смачно и подольше.
Первый стрим «зашёл». Подписчики, лайки, донаты. Алгоритмы платформ подхватили её, как волну. Начались ежедневные трансляции — по 8–10 часов, с горой еды перед камерой. Сначала — лапша, креветки, рис. Потом — экзотика: осьминоги, бычьи сердца, острая пища с адскими соусами. С каждым стримом аппетит публики рос. Чтобы удержать внимание, порции увеличивались — до 10 килограммов еды за один эфир.
У неё давно было ожирение, вес зашкаливал за 120 кг. Врачи диагностировали гипертонию, проблемы с ЖКТ. Она ложилась в больницу — и выходила в прямой эфир буквально на следующий день. Никакой реабилитации, никакой паузы. Алгоритм не прощает тишины.
За лайками никто не видел, что на экране — по сути, саморазрушение в прямом эфире. Каждый эфир — удар по организму. Она превращала пищу в шоу. Аудитория требовала продолжения.
В 2024 году во время одного из эфиров Сяотин стало плохо. Она упала прямо на глазах у зрителей. Позже СМИ сообщили — произошла остановка сердца. Причина — осложнения на фоне ожирения, перегрузки, хронических заболеваний. Ей было чуть за тридцать.
Смерть Пань потрясла аудиторию. Появились ролики в её память, кто-то устроил стрим «в честь легенды». Но спустя неделю всё затихло. Алгоритм не знал сочувствия — он просто переключился на других. Одну звезду мукбанга сменили десять новых. Формат остался. Остались и зрители. А сама Пань Сяотин — стала ещё одной трагической иконой эпохи цифровой зависимости.
«Алгоритмы усиливают поведение, вызывающее эмоциональный отклик, даже если он негативный, — поясняет врач-психиатр нашей клиники Морозова Елена Владимировна. — Именно поэтому в ленте всегда выше поднимаются провокационные, шокирующие или болезненные посты. А подростки, чья психика ещё нестабильна, подражают им, не осознавая рисков».
Виртуальная среда может не только социализировать подростка, но и асоциализировать. За внешним глянцем и эстетикой — разрушение. За «честным контентом» — симптомы болезни. Молодой человек перестаёт понимать, где заканчивается самовыражение и начинается самоуничтожение.
Риски челленджей — не просто баловство
Современные соцсети создают парадокс — человек окружён миллионами людей, но остаётся без внятных ориентиров. Контент формирует поведение быстрее, чем семья или школа. Игра превращается в зависимость, эксперимент — в госпитализацию, а лайк — в смысл жизни.
Так было, например, с участниками «Hot chip challenge», где подростки съедали острые, насыщенные капсаицином чипсы. После роликов — скорая помощь, рвота, удушье, а у некоторых — обмороки. Или челлендж с закисью азота, где молодые люди вдыхали баллончики со «веселящим газом», чтобы «оторваться без последствий». Несколько смертей по миру, десятки случаев кислородного голодания. Но тренд продолжает жить.
Интернет распространяет такие «игры» мгновенно, а контролировать это практически невозможно. Модераторы платформ не успевают удалять ролики. Тиктокеры кодируют названия, используют сленг, шифруют описания. Один ролик может вдохновить тысячи подростков на повторение, даже если автор сам попал в больницу.
И это не аномалия. Это — системный сбой. Теория общества риска, сформулированная социологом Ульрихом Беком, как раз и описывает такие явления. Новые технологии создают формы поведения, последствия которых заранее невозможно просчитать. Цифровая среда становится питательной почвой для опасных игр, где традиционные инструменты регулирования бессильны. Общество не успевает понять, чем опасен новый тренд, а он уже собирает миллионы просмотров.
«Мы строим свои жизни вокруг чувства совершенства, потому что получаем сигнал — лайк, палец вверх, реакцию. Это ложная, хрупкая популярность, которая оставляет тебя ещё более пустым», — подчёркивает Палихапития.
Молодые люди чувствуют эту пустоту, но не знают, как её заполнить. И пробуют снова. Съёмка. Эфир. Новый челлендж. Нарастающее напряжение — и краткий взрыв дофамина. А за ним — тревога, апатия, бессонница. В некоторых случаях — депрессия, саморазрушающее поведение, желание исчезнуть.
Родители часто не замечают первых тревожных сигналов. Изменения могут быть внешне малозаметными:
- ребёнок стал реже есть;
- чаще сидит в наушниках;
- вздрагивает при прикосновении к плечу;
- внезапно проявляет вспышки агрессии.
Важно не упустить момент, когда «челлендж» ещё можно остановить. И не пытаться решать это запретами. Вместо них — диалог, поддержка и, при необходимости, помощь специалистов.
Глорификация наркотиков — новая форма пропаганды: как TikTok и Instagram романтизируют зависимость
Сегодня наркотики — это уже не только криминал и подворотни. Это кадры с фильтрами, эстетика вечеринок, замедленные видео с пульсирующим светом и фразами вроде «High but healing», «Better on meds». Красиво, стильно, вызывающе.
В TikTok, Instagram и других платформах романтизация зависимости подаётся под видом самораскрытия, «мудов», психологической уязвимости и эстетики упадка. Подросток в расстёгнутой рубашке с покрасневшими глазами, подписанный как «на грани, но улыбаюсь», собирает тысячи лайков. Но за этим часто стоит не только желание самовыражения, но и банальная зависимость.
«Никто не показывает, как выглядит ломка в реальности, — говорит нарколог нашей клиники. — Соцсети подают зависимость как стиль жизни, как эмоциональный контекст, где нет боли, рвоты, паники. Есть только атмосфера и так называемый духовный опыт».
Сотни молодых людей транслируют употребление как «опыт», «путь» или «манифест свободы», хотя на деле — это потеря контроля. Мы изучили профили в TikTok, Instagram и ВКонтакте — без контакта с подростками, лишь по открытым постам, сторис и прямым эфирам. Выводы оказались шокирующими — шприцы, алкоголь, таблетки, пустые глаза и романтизация разрушения — не единичные случаи, а уже почти жанр.
Например, 17-летняя девушка выходит в прямой эфир с вечеринки. В кадре — алкоголь, громкая музыка, нецензурные выражения, агрессия. Она оправдывает своё поведение словами «мне хорошо» и «я так справляюсь».
Другой подросток — 16 лет — записывает видео о наркотиках. Говорит, как «приятно» ему на фоне галлюцинаций, описывает «мистическую эйфорию». Видео набирает лайки, реакции, сохранения. Алгоритмы подхватывают контент — и он становится трендом.
Кто особенно уязвим к такому контенту
Подростки с травматичным опытом, чувствительные, неуверенные, ищущие идентичность — первыми попадают в ловушку. Они смотрят, сравнивают, пробуют. А нейромаркетинг платформ усиливает эффект: лайк — дофамин, комментарий — фиксация одобрения, алгоритм — дозировка зависимости.
Иногда зависимость начинается с банального — с интереса. Потом появляется первое видео, первая «реакция» — и контент меняется. Подросток попадает в пузырь, где наркотики — это норма, нечто «крутое» и «смелое». Родители теряются, не понимая, что ребёнок уже внутри воронки цифровой глорификации.
Мы выявили ряд признаков, по которым можно заподозрить вовлечённость в наркотематический контент:
- у подростка появляются сторис с эстетикой «пустоты» — тёмные фото, бессмысленные подписи;
- упоминания таблеток, «загадочных состояний» или шутки про зависимость;
- частое цитирование фраз из треков о наркотиках;
- интерес к пабликам с символикой наркокультуры.
Сегодня легко найти десятки групп с рецептами веществ, адресами дилеров, советами по «правильному употреблению». Многие из них публичны, доступны по простому поисковому запросу. И если подросток однажды оказался в такой группе, алгоритмы сами поведут его дальше — к похожим сообществам, похожим видео, похожим людям. И выхода оттуда без помощи — почти нет.
Многие пропагандистские группы в ВКонтакте блокируются, но остаются десятки других — про цифровые наркотики, «безопасную травку», аудиотреки, вызывающие изменённые состояния сознания. Всё это завёрнуто в мемы, треки, рилсы. Это не агитация лобовая — это обаяние разрушения.
Чек-лист: как понять, что подросток вовлечён в наркотематический контент
- Необычные цитаты в профиле
Подросток размещает фразы вроде: «High but healing», «Норм жить в тумане», «Лучше с таблеткой, чем с вами». Эти фразы романтизируют психоактивные состояния.
- Подписки на сомнительные сообщества
В профиле есть группы с названиями вроде: «420 forever», «Психонавты», «Аудио-дурь», «Трава — не наркотик». Такие сообщества часто пропагандируют потребление или легализацию веществ.
- Визуальный контент с «эстетикой употребления»
На фото и видео заметны:
- шприцы, таблетки, марихуана, фольга, вейпы;
- дым, клубы, неон, агрессия, усталость, «триповые» фильтры.
Эстетизация отходняков и эйфории стала отдельным жанром.
- Участие в челленджах, связанных с изменённым сознанием
Видео с подписями типа «Вышел из тела», «Поймал приход», «Под кетом», даже если в шутку. Используется сленг — герыч, спайс, таблы, кет, ширка, снюс.
- Нарушение режима сна и активности
Подросток активен в соцсетях глубокой ночью, может уходить в трансляции с «грустным фоном», пустыми глазами, странным поведением. Это указывает на употребление или на проживание «отходняков».
- Частая смена настроения в постах
Переход от апатии к восторгу, от мрака к эйфории. Посты о «потере смысла», «тишине в голове», «боли, которую можно заглушить».
- Явное или завуалированное обсуждение веществ
Фразы вроде: «Кто знает, где взять?», «Кто накинет?», «Есть контакт».
Использование эмодзи вместо слов.
- Интерес к «запретным темам» и цифровым наркотикам
Прослушивание «аудио-дурей», участие в форумах про «цифровой приход». Увлечение музыкой и блогерами, которые открыто говорят об употреблении.
Если вы отметили 3 и более пунктов, это весомый повод начать с подростком открытый диалог, проявить участие, без давления, и по возможности — обратиться за консультацией к специалисту (психологу, наркологу, медиатору по зависимостям).
В нашей клинике врачи помогают подросткам, которые стали жертвами подобных иллюзий. Мы понимаем, что за красивой картинкой может стоять глубокая боль, страх или одиночество. И знаем, как вернуть ребёнку трезвость — в самом широком смысле этого слова.
Эстетика боли: как селфхарм стал трендом
В коротких видео — руки с порезами, капюшон, мрачная музыка и философские цитаты. На первый взгляд — крик о помощи. На деле — это новый формат тренда. В TikTok и Instagram подростки выкладывают контент о самоповреждениях под видом «поддержки». Названия роликов — вроде бы невинные: «Как пережить боль», «Если ты тоже устал». Но внутри — кадры с порезами, следами ожогов и текстами вроде: «Ты не один». Алгоритмы платформ, видя вовлечённость, продолжают подкидывать похожее.
Открытые теги вроде #selfharm или #cutting уже запрещены, поэтому подростки шифруют их. Например, используют иероглифы, сокращения или якобы случайные слова вроде #ventart, #sadcut, #13l. Это новые коды боли, в которых узнают друг друга те, кто «в теме». Так формируется тихая субкультура, где боль — это стиль, а страдание — способ стать «своим» в сообществе.
По данным исследований, в Instagram и Tumblr ежегодно публикуется до 2,4 миллионов постов о самоповреждениях. Чаще всего — фотографии порезов, самоожогов, следов от ударов и выдранных волос. Особенно активны такие пользователи в вечернее и ночное время.
Контент о селфхарме не просто показывает травму — он запоминается мозгом как путь к облегчению. Пусть разрушительный, но якобы эффективный. Эмоциональное напряжение, тревога, пустота — всё это на мгновение затихает после боли. Так возникает иллюзия контроля. Постепенно формируется нейронная дорожка: боль = выход. Подросток не обязательно хочет умереть — он просто не умеет иначе справляться с эмоциями.
Иллюзия поддержки в таких видео лишь усугубляет проблему. Подросток не идёт к психологу — он остаётся в TikTok, где боль эстетизируют и романтизируют. Особенно подвержены риску те, кто уже испытывает тревожность, депрессию, одиночество. Психологи называют это явление киберсоциализацией с высокими рисками.
По статистике, до 20% подростков хотя бы раз в жизни наносили себе повреждения. А в условиях соцсетей они получают не осуждение, не помощь, а лайки и комментарии вроде: «я тебя понимаю», «у меня тоже так». Это подкрепляет поведение и вызывает эффект зеркала.
Когда подросток сталкивается с болью, ему нужен не очередной ролик, а человек. Кто сможет выдержать эмоции, не обесценит, не закричит и не скажет: «Прекрати это немедленно». Именно здесь нужна профессиональная поддержка. Психотерапевты нашей клиники работают с подростками в кризисе — помогают проживать боль безопасно, учат навыкам саморегуляции, возвращают ощущение контроля — без ножа и без экрана.
Бодипозитив или РПП: грань между принятием и болезнью
Бодипозитив — это не лень и не пропаганда ожирения, как привыкли считать. В своей изначальной идее это движение было направлено на одно — научить человека принимать собственное тело без страха, стыда, насмешек. Но за последние годы граница между самопринятием и безразличием к здоровью начала стираться.
Движение появилось в США в 1996 году. Его основали Конни Собчак и психотерапевт Элизабет Скотт. Одна боролась с пищевым расстройством, вторая — лечила таких пациентов. Вместе они продвигали простую мысль: тело — не повод для унижения. Ты не обязан быть стройным, чтобы быть достойным.
Со временем эта идея ушла в радикальную плоскость. Под лозунгами «Fat is beautiful» и «Прими себя» начали продвигать совсем другое — отказ от заботы о здоровье, оправдание вредных привычек и даже отказ от личной гигиены.
В соцсетях всё чаще появляются посты, в которых ожирение называют нормой, а попытки похудеть — «насилием над собой». Или наоборот — культ «чистого тела», брокколи и спортзала, доведённый до абсурда. Когда человек боится куска хлеба, это уже не здоровый образ жизни, а форма расстройства.
Под бодипозитивом маскируются РПП — анорексия, булимия, орторексия, бигорексия. Это не свобода — это болезнь. Но в Instagram и TikTok она красиво упакована и собирает лайки.
Социальные сети усиливают эффект. Популярные блогеры, публично отказываясь от диет и спорта, вызывают сочувствие и одобрение. Или наоборот — продвигают образ «идеального тела», из-за которого подростки доводят себя до истощения. В этой системе всё — шоу, где здоровье стоит не на первом месте.
Бодипозитив же должен быть про другое. Про то, что тело — это не вечно худое и не вечно толстое. Это про реальность, комфорт и заботу. Про здоровье, а не про вес.
Если человеку тяжело дышать, болят суставы, нарушен метаболизм — это не «особенность тела», а медицинская проблема. Она требует решения, а не лайков под постом «Я люблю себя такой, какая есть».
В итоге бодипозитив стал маркетинговым ходом. Модные бренды используют «настоящих женщин» в рекламе, но только до тех пор, пока это приносит прибыль. Массовая культура всё ещё диктует свои стандарты — просто теперь они стали хитрее.
Врач, нутрициолог или психолог — те, кто может помочь отличить ЗОЖ от РПП. А не тикток с рецептами на 800 ккал в день.
Мы в клинике работаем с пищевыми нарушениями — в том числе теми, что маскируются под бодипозитив. Помогаем человеку найти здоровое отношение к еде и телу — без крайностей.
Магическое мышление и кристаллы: вера в чудо вместо терапии
Мир ускоряется, становится непредсказуемым и давит на психику — постоянным потоком новостей, тревожной повесткой, кризисами, нестабильностью. В этом шуме человек стремится к одному — почувствовать, что у него снова есть контроль. Кто-то идёт к врачу. А кто-то — к кристаллам, ритуалам с лунной водой, «энергетической чистке» и Таро.
Эзотерика предлагает простое, красивое и якобы древнее решение:
- положи розовый кварц под подушку — тревога уйдёт;
- очисти ауру солью — депрессия испарится;
- заряди воду под полнолунием — снова почувствуешь силу жить.
Это не просто модный тренд. Это способ справиться с болью, страхами, неопределённостью — без таблеток, без диагноза, без признания: «со мной что-то не так».
Проблема — в том, что они подменяют реальную помощь. Когда человек страдает от ПТСР, тревожного расстройства или депрессии, вера в магический камень — это отказ от терапии. И это опасно.
«Убеждение, что кварц исцеляет тревожность, опасно — можно упустить момент, когда нужно реальное лечение», — говорит наш психиатр, работающий с пациентами с тревожными расстройствами.
Современный рынок духовных практик — это не только добросовестные психологи с эзотерическим уклоном. Это и тысячи шарлатанов, умеющих красиво говорить, собирать лайки и внушать — «у тебя порча», «я вижу особую энергию», «ты рождён быть ведьмой». Их оружие — не магия, а маркетинг. Эмоциональные заголовки, визуальный ряд, псевдонаучные термины — всё, чтобы создать иллюзию глубины. А за ней — пустота. Или, что хуже, — манипуляция.
Цифровая эпоха разрушила монополию официальной религии на сакральное знание. Теперь духовный поиск — это:
- подписка на Telegram-канал «астропсихолога»;
- подкаст о ретроградном Меркурии;
- онлайн-курс по гаданию;
- марафон «открытия женской силы».
И у этого поиска есть своя логика — человек, потерявший доверие к институтам (врачам, государству, религии), идёт туда, где его слышат. Пусть и за деньги. Пусть и без гарантий.
По данным исследований, в 2024 году в России 9,5 миллионов человек интересовались мистикой — на 30% больше, чем в прошлом году. Наибольший интерес проявляют люди 35–44 лет. Женщин среди них больше, но и мужчины активно вовлекаются. Количество запросов по обучению Таро превышает 20 тысяч в год. Это массовое явление. Оно уже перестало быть маргинальным.
Эзотерика становится способом самопомощи. Ритуал — это форма медитации. Символ — это способ говорить с собой на другом языке. Но если за ритуалом стоит отказ от диагностики, терапии и признания симптомов — он становится ловушкой. Особенно для тех, кто и без того уязвим.
Алгоритмы соцсетей усиливают эту ловушку. Они продвигают не глубину, а эмоциональность. Шарлатан, который пугает «смертельной порчей», всегда получит больше внимания, чем тихий практик, объясняющий структуру архетипа. В этой гонке за внимание побеждает не тот, кто умеет лечить. А тот, кто умеет продавать.
Мы поддерживаем любые формы саморазвития. Медитация, Таро, кристаллы, астрология — всё это может быть частью пути к себе. Но если тревожность мешает жить, если кажется, что засасывает в чёрную воронку — не нужно очищать ауру. Нужно идти к врачу. Специалист даст не обещание, а помощь. И это — настоящее волшебство.
Что делать, если вас или вашего близкого затянули деструктивные тренды
В цифровом мире граница между вдохновением и разрушением стирается. Один безобидный ролик — и вот вы уже бесконечно листаете чужую боль, диеты, шрамы, опасные эксперименты. Алгоритмы подсовывают то, на что вы реагируете. А значит, вовлечённость в разрушительный контент — это не случайность. Это тревожный сигнал.
Мини-чеклист: пора ли бить тревогу
- Я часто задерживаюсь на видео о боли, голоде, саморазрушении.
- Испытываю возбуждение или острое внимание к «жёсткому» контенту — от аварий до наркоканалов.
- Пробовал(а) повторить увиденное.
- Думаю, что без лайков, репостов и подписок — я ничто.
Если вы отметили 3 или более — это уже не просто интерес. Это повод обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту.
Когда важно не откладывать помощь:
- настроение скачет резко и без причины, пренебрежение живым общением;
- отказ от еды, агрессия после спорта, болезненный контроль тела и эмоций;
- вещи, которые настораживают — бритвы в ящике, списки калорий, странные заметки, кристаллы «для очищения энергии»;
- постоянное ощущение вины, тревоги, желания «очиститься», «исправиться», «исчезнуть».
Интернет может быть источником вдохновения, но и ядом — тоже. Если внутренний мир человека меняется в сторону страха, контроля или самонаказания — это крик о помощи. И помощь есть. Психотерапия, поддержка, восстановление — это путь, который может вернуть вам себя.
История из жизни
«Моей дочери было 15, когда начался этот кошмар. Активная, живая, любила сладкое. Как-то пришла домой и говорит: «Хочу быть стройной, спортивной, с кубиками». Мы обрадовались. Думали займётся спортом. Но потом началось. Она отказалась от сахара, потом от хлеба, потом ела только гречку. Установила шагомер, часами шагала по комнате. Ходила на пробежку утром и вечером. Однажды я проснулась ночью — она стояла в коридоре и делала приседания. Потом всё — слабость, истерики, плач. Диагноз — анорексия, с элементами навязчивого поведения. Врачи сказали — запущено через фитнес-блог с псевдонаучным уклоном. Она просто хотела быть красивой, а оказалась в ловушке».

Обратитесь к нам за помощью, мы обязательно вам поможем!Самое главное не закрывать глаза на проблемуи начать лечение как можно раньше!
Как мы можем помочь
Если чувствуете, что соцсети или деструктивные тренды выбивают почву из-под ног — не оставайтесь наедине. В нашей клинике работают врачи, психотерапевты, диетологи, наркологи. Мы подбираем помощь под человека, а не под диагноз. Здесь нет обвинений, давления или стыда. Только честный разговор и поддержка.
Мы работаем с подростками и взрослыми. Помогаем при расстройствах пищевого поведения, цифровой зависимости, тревожности, самоповреждениях и депрессии. Каждый случай — индивидуальная программа. Без клише. Без «лечить по шаблону».
Сами по себе соцсети не вредны. Это всего лишь инструмент. Проблема — в том, как мы его используем и что чувствуем в ответ.
Когда подписки и алгоритмы подменяют самооценку, когда жизнь превращается в бесконечную ленту сравнения и тревоги — это сигнал. Значит, пора выйти из виртуального пузыря и вернуться к себе. Помощь рядом, не стесняйтесь обращаться по телефону ☎8-(846)-970-70-14.